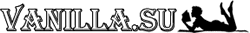Господин Гнилозубов – это добрейшее и жизнерадостное, лысое и крохотное существо. Всё у него отлично. И тем более сегодня. Впервые в жизни он осознал, что самый прекрасный праздник – день рождения. У кого как, а у него в этот особый день произошли чудеса.
Во-первых, он вспомнил ВСЁ. А до этого ничего не помнил. Ни фамилии, ни папы с мамой. Ни то, где работал, когда женился, кого на свет произвёл. Ничего не помнил. Бывает такое в жизни.
Ну, а в-последних, очень удивился тому, как именно это вспомнилось. Он увидел кино. Оно было быстрым, как мысли. Ясным, как слеза, что скатилась по щеке господина Гнилозубова во время просмотра своего этого кино.
В первой серии ему показали родителей. Родители ругались, ругались и потом бросили друг друга.
Во второй серии было ещё интереснее. Жена нашего господина, госпожа Гнилозубова – загляденье. То один, то другой заглядывал к ней, пока её супруг ковырял в своей сапожничьей каморке на углу улицы Розы Люксембург чужую обувь. Однажды ему попался какой-то нервный клиент, с брюшком, с сигарой и глазами безумными навыкате, будто все ему должны. На жабу, в общем, похож. Всё торопил сапожника и суетился, как моль в шкафу. «Что, живой моли не видел?» – вспомнился Гнилозубову бородатый анекдот про любовника в шкафу.
На этом он оборвал неприличные мысли и отдался творчеству. Он терпел дым сигары и виртуозно, как пианист в концертном зале, посылал токкату на гордую физиономию заморских башмаков с железными носами, и те шептали что-то снисходительное насчёт неплохих чаевых. Мимо обувной мастерской неслись по проезжей дороге гудящим калейдоскопом разноцветные погремушки на колёсах, цокали по узкому тротуару женские каблуки, чавкали мужские кроссовки, летела, хохотала, гомонила толпа, ветры волокли по небу тучи голубей. А он всё умащивал кремами, всё охаживал щётками, всё оглаживал бархотками. И всё ярче, и всё мощнее, и вот уже настоящая симфония, и вот уже настоящее солнце. Господин Гнилозубов любил свою работу. Ему нравилось превращать унылость и серость чужой обуви в красоту и радость жизни. И эту радость он щедро переливал из своей, поющей в этот момент, души туда, где мелькали его мозолистые пальцы, где рождалось, где созидалось. И это каждый раз была самая прекрасная его песня, самый вдохновенный его экспромт.
Потом Жаба сказала на своём что-то типа «сенкью-чурбан-гудбай», кинула под ноги долларовую бумажку, и пошла в подъезд дома, где жили супруги Гнилозубовы. Так удобно располагалась мастерская, что и дом, и окна квартиры в поле зрения.
Посмотрел вслед иностранцу сапожник Гнилозубов, перекрестился и с подозрением на сердце задремал. И видит сон, будто его жена целуется с чужеземцем прямо в той самой, слегка обременённой клопами, постели, в которой господин Гнилозубов ночи проводит, клопов лупит и жену любит. Открыл глаза и всё понял. Взял шило, закрыл за собой дверь на засов, приклеил скотчем замасленную обёртку от бутерброда с корявой надписью жирным фломастером «ждите, буду чрес дсять минут», и прямо в длинном, клеёнчатом фартуке с пятью накладными карманами и банкой пива в нижнем кармане отправился убивать изменницу.
Дома было тихо, пахло коньяком с клопами. А вот в прихожей пылало солнце и звучала симфония – это приветствовало господина Гнилозубова произведение искусства, рождённое им полчаса назад на углу улицы Розы Люксембург: шепчущие о заморских странах, отполированные до зеркального состояния башмаки господина Жабы-Моль с железными носами. В одном из них сияло весёлое отражение фикуса в кадке, а в другом – ёжилась грустная фигурка господина Гнилозубова. Он передвигался тяжело, медленно, согнувшись крючком, как инвалид с приступом радикулита.
Ему мешали руки. Что-то мешало смотреть, что-то мешало дышать. Он часто моргал, но не мог побороть резь в глазах. Возникло желание сморкаться. Он озирался и ничего не видел, кроме этих проклятых, с железными носами. То и дело его взгляд возвращался в зазеркалье чужих башмаков – к кривому, смешному, пока слёзы не превратили его отражение в кляксу.
А за дверью спальни шептались и вздыхали. Он присел на край стула в гостиной, положил шило на стол и стал ждать своего часа. Входить в разгар событий было стыдновато. Повертел в руках банку с пивом и вернул обратно в карман. Потом слушал, как скрипит кровать, как тикают часы, как идёт жизнь. Потом всё-таки выпил полбанки пива. Хотел допить до дна, но увидел в открытом настежь окне Бога. Бог погрозил с небосвода пальцем. Гнилозубов потупился, виновато вздохнул, перекрестился и взглянул Богу в глаза. Бог улыбнулся и превратился в лето. У лета были крылья ворон, беззаботность воробьёв и радость свободы. И вдруг – чудо. Стало Гнилозубову на душе спокойно и так хорошо, что захотелось оторваться от земли, полететь на небеса и полюбить всех людей такими, какие они есть. Все жизненные передряги, что волновали его, показались размером с дождевого червяка.
И стали возникать в его голове такие мысли. Вот эти люди, там за стеной, они хотят любить друг друга. Это их право на свободу. Так почему я должен нарушать эту волю свободных людей. Кто я такой, чтобы вмешиваться в чужие судьбы.
Он посмотрел на шило, взял и спрятал в один из пяти карманов. «Ах, шалун, ах, Мойдодыр!» – сказали за стеной голосом жены. И через пять минут дверь распахнулась, это госпожа Гнилозубова с Жабой-Молью решили пойти на кухню попить чая с бубликами и с коньяком. Они были абсолютно голые, а оттого родные и понятные каждому нормальному человеку, не только незваному зрителю с шилом в кармане. А ещё были они довольны всем на свете, кроме единственного. Того, что увидели перед собой в гостиной за круглым столом. «Пардон. Сорри. Сильвупле», – сказал господин Гнилозубов. Его лицо без специальных усилий сделалось сладким, приятным, а в глазах заслезилось умиление. Он привстал, подтолкнул мизинцем жестянку с пивом: «Бон аппетит». Та опрокинулась и шлёпнулась на пол, к волосатым ногам в гнилозубовских домашних шлёпанцах. Господин Гнилозубов отвёл взгляд от своих шлёпанцев в пивной пене на голых мужских ногах, случайно хрюкнул и ушёл – пятясь, сложив на груди ручки, раскланиваясь. Туда, откуда пришёл. В сапожничью конуру.
И стал он дальше жить со своей второй половиной и играть гаммы на чужих ботинках.
Были у них дети. Длинный ясноглазый сынуля, вор-рецидивист. И хромая, с заячьей губой, но очень при этом миленькая, себе на уме, доченька, профессиональная проститутка. Сына сидел по тюрьмам. Доня – в публичном доме с вывеской «Массажный салон». Если господина Гнилозубова кто-то спрашивал о его детях, он кашлял и говорил о плохой погоде. А в душе переживал. Такие вопросы он воспринимал как оскорбление.
А когда господин Гнилозубов состарился, на него нашло затмение, и однажды, забыв помолиться, он таки, под горячую руку, осуществил свою забытую мечту. Кирпичом. В тот момент, когда госпожа Гнилозубова под окнами обихаживала на четвереньках какую-то зелёную дребедень с листиками на своём, отвоёванном у соседей ценой междоусобных нервов, огородике. Огородик был по-настоящему «натуральным» и «нашенским», то бишь запакощенный «нашими свиньями» с их «свинских балконов» окурками, огрызками, бутылками, а ещё пакетиками от чипсов и солёных орешков, обёртками от сникерсов и мороженого, пузырьками из-под настойки боярышника, одноразовыми шприцами и прочими бессовестными предметами. Выход на всю эту природу с пейзажем означал для госпожи Гнилозубовой в первую очередь романтическую прогулку. Вот и в этот памятный день. Соседушка из второго подъезда, в прошлом «шишка» заметных партейных должностей, топтался поблизости и собачонку по кличке Мерзость держал на поводке. Они так всегда. Он выходит проветривать свою Мерзость, а госпожа Гнилозубова – задом вертеть. И начинается щебетание. (Супружница даже спросила как-то у своего Гнилозубова: «А не выйти ли мне замуж за того партейца по фамилии Мерзость?») Думают, по старческой рассеянности, что у них подростковый пубертат и целомудренность. Так что пришлось кирпичом. От склероза.
Сел гражданин Гнилозубов в тюрьму после такого случая и стал ждать, когда срок закончится. В тюрьме было темно-претемно. И как-то уютно. Оказалось, это не тюрьма. А персональный домик. В животике у мамочки.
«Я тебя ненавижу!» – «А пошла ты…» – услышал из своего убежища Гнилозубов. Это родители собачились.
Наступила тишина. Потом шаги, плач. Это мама переживает, – понял он. С папой поссорилась.
А затем чей-то незнакомый мрачный голос строго сказал: «Вам с наркозом или без?»
И другой незнакомый, кокетливый, голосок пропел: «Доктор, вам кофе со сливками или без?»
«С наркозом», – огрызнулась мама.
«Со сливками, моя куколка. Ах, ну и халатик у тебя сегодня. Аж меня от его прозрачности знобит», – ответил доктор.
«Мама, а зачем тебе наркоз?» – спросил господин Гнилозубов.
«Я хочу тебя убить, – ответила равнодушно мама. – Аборт называется».
«Но я не хочу аборта, мам. Пожалуйста!» – и заплакал.
Мама помолчала и тоже заплакала, и сказала громко: «Не надо наркоза. Ничего не надо. Пусть он живёт».
«А давай-ка лучше с коньяком, моя куколка!» – сказал доктор.
...И вот, спустя необходимое количество месяцев, наступил-таки долгожданный первый-препервый день рождения господина Гнилозубова, когда ему и было открыто чудесным образом знание о его дальнейшей жизни. Пока медсестра с его пуповиной возилась, пока врач демонстрировал красного, орущего младенца улыбающейся роженице, пока новорождённого обмывали, пеленали, его душа созерцала иные измерения. Кто-то крутил фильм под названием «История будущей жизни господина Гнилозубова».
…Узнав ВСЁ, наш герой задумался и понял, что такого кина он не хочет.
«А что ты хочешь?» – спросил Бог.
«Я хочу к Тебе!»
Больше никто никогда господина Гнилозубова на земле не видел. И только холмик с крестом на городском кладбище напоминал о единственном и самом лучшем в его жизни событии.