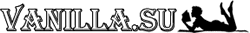Один из групповых опытов навсегда остался в моей памяти. Он хорошо дает понять, как энергия в виде эмоций может попадать в плен внутри личного энергетического поля человека и вредить его жизни на протяжении долгих лет. Это случилось в 1972 г. во, время 18-часового группового марафона, продолжавшегося всю ночь в Вудстоке, штат Нью-Йорк. Марафон начался около шести часов вечера. Большую часть ночи я помогал лидеру группы Алу. Около двух часов ночи, как только некоторые из нас перекусили, один из участников группы неожиданно начал говорить. Он сказал, что недостаточно хорош для своих родителей, поскольку, что бы он ни делал, этого было мало для их счастья. Рассказывая, он заплакал. Можно было даже почувствовать, как от него исходила печаль, становившаяся заразительной и быстро распространявшейся на всю остальную группу. Почти у всех в глубине души нашлось что-то созвучное, полностью завладевшее каждым из нас. Это было подспудное терзающее чувство, подсказывающее, насколько незначительно было все то, чего мы достигли или старались достичь. Все равно мы недостаточно хороши для наших родителей, и неважно старались мы или нет, все равно, где-то глубоко внутри нас сидел какой-то изъян, который сломал нашу жизнь и не дал нам обрести свою мечту — счастье и самодостаточность.
Я ничем не мог им помочь, и сам проникся состоянием остальных участников группы и этим глубоко спрятанным в них чувством безнадежности. Грудь тут же налилась тяжестью. Я давно уже себя так не чувствовал. Это чувство вспомнилось сразу. Это было то самое чувство, которое вселяло ужас и приходило ко мне в детстве, его я боялся и подавлял в себе, стараясь любой ценой избежать его повторения. Это было жуткое чувство. Когда оно приходило, все вокруг переставало радовать, будто оно высасывало из мира всю радость. Если облечь это в слова, то можно сказать так: «Радость улетучилась, осталось лишь я, и навсегда. Что бы ты ни делал, всегда будет плохо, и тебе никогда не освободиться от меня».
Я видел, что почти все, кто были вокруг меня, чувствовали то же самое. За те восемь часов, прошедших с начала марафона, я первый раз мысленно поблагодарил судьбу за то, что все мы, обделенные в детстве и по-своему тянувшиеся к любви, оказались в одной лодке.
Когда он говорил, мне стало тяжело, потому что я понял, что во мне есть глубокая рана, точно так же как и у всех остальных из нашей группы. И в этот момент я вдруг захотел проявить себя, захотел помочь другим, хотя бы немного смягчить их боль. Их страдание озарило меня светом истины и заставило возблагодарить судьбу за то, что я сам нуждаюсь в поддержке.
Да, я чувствовал боль, и в этот момент откровения вдруг испытал сострадание к маленькому мальчику, который был внутри меня, который так долго метался в потемках и страдал. Все остальные оказались точно такими же, как я, и к глазам подступили слезы сопереживания. Печаль была так глубока, что казалось, если кто-нибудь сейчас же не подойдет и не обнимет меня, я разрыдаюсь. Остальные плакали по разным углам комнаты. В комнате стало как-то тускло, словно какая-то тень спустилась и заволокла собой мир.
Отчего-то мне вдруг стало невмоготу сидеть на виду у всей группы, и тогда я сполз со стула, сделал несколько шагов прочь и сел у стены, согнув ноги в коленях. Я просто дал себе успокоиться, и тогда стало как-то легче, потому что здесь я был более одинок. Я закрыл глаза и почувствовал себя усталым и опустошенным. Я мысленно увидел своих родителей, и после стольких лет обвинения их в своей несчастливости, больше не испытывал желания возлагать вину на них. Мне хотелось просто отдохнуть, и я спокойно думал, как тяжело, должно быть, всем этим людям пришлось в детстве. Их было жалко, и хотелось, чтобы их родители в свое время были к ним внимательнее.
Я больше не мог винить своих родителей в непонимании и невнимании. Когда в твоем присутствии другие выглядят такими несчастными, это уже кажется низким и мелочным. Первый раз (к своему удивлению) я вспомнил, как моя мать держала меня на руках. Я вспомнил, что тогда чувствовал себя в безопасности. Уже долгие годы не было в моей жизни этого благословенного чувства.
Должно быть, пока внутри меня все это происходило, прошло какое-то время, потому что когда я открыл глаза, увидел, что стулья сдвинуты в сторону, и почти все сидят на полу, сосредоточив внимание на мне. Ал был справа от меня. Меня обнимали, и я с удивлением огляделся. «О Господи»,— прошептал я одними губами. Кто-то положил свою руку мне на плечо, хотелось кричать: «Не троньте меня, просто оставьте меня одного». Но слова застряли в горле, и я изо всех сил сжимал веки, чтобы побороть поднимающуюся изнутри волну освобождения.
Раздался чей-то голос, который сказал: «Слушай, Кейт, возьми-ка и выброси все это». Это был Ал. Он повторил: «Просто возьми это и выброси. Ты никогда не сможешь быть достойным их, ты никогда не сможешь стать таким, каким они хотели бы тебя видеть. Просто возьми и избавься от этого». Я не мог ответить, и снова услышал его голос: «Открой рот и скажи: «Я избавляюсь». Я сказал. Поначалу мои слова были едва слышны, но через несколько мгновений плотина открылась, и из нее хлынули слова. Я снова и снова повторял: «Я избавляюсь».
Еще руки легли мне на плечи, и я услышал остальные голоса. Потом я мягко растянулся на полу, и одно время мои руки и ноги были словно ватные. Это даже немного кружило голову. Кто-то взял меня за руку, и я почувствовал со всех сторон волны любви.
Я лежал там и повторял: «Я избавляюсь», и вдруг пришло чувство, будто тяжесть целого мира, долго-долго давившая на плечи, исчезла. Пришел момент очищения, потому что я сумел дотянуться сквозь боль и одиночество к тем временам, когда был нужен и любим без всякой причины.
Я испытал чувство, будто меня укутали энергией моей матери, энергией пронизавшей меня всего насквозь и ставшей частью меня. В этот момент я понял, что отвергать свою боль, значит, отвергать эту энергию, а чтобы отвергнуть ее, придется отвергнуть и самого себя. Первый раз я ясно уразумел, что, отвергая материнскую энергию, отвергал жизненно важную часть личного энергетического поля.
Человек является производным своих отца и матери как с физической, так и с энергетической точки зрения. Человек — это сочетание энергетических полей своих родителей. По мере взросления мы интегрируем в свое личное энергетическое поле другие энергетические частоты, но отвергать или забывать такие исконные составляющие, как вибрацию «мать» или «отец», значит, наносить по своей энергетике тяжелый удар.
Я лежал и беззвучно повторял: «я избавляюсь», и чем дольше я это повторял, тем надежнее становилось чувство успокоения, обнимавшее меня. Я ничего не мог больше сделать. Все, что мне оставалось,— это избавиться, забыть обо всех прошлых горестях и просто дать жизни идти своим чередом. Обнимавшее меня с ног до головы чувство несло пронзительное успокоение, что казалось каким-то проявлением божества, как будто я вдруг попал в ванну святой энергии. Мои глаза были закрыты, я отдыхал. Время и пространство исчезли. Осталось только успокоение. Я чувствовал руку Ала на лбу, это было очень приятно и переплеталось с чувством глубокой радости, которое я переживал. Я долго лежал и наконец почувствовал, что должен побыть один.
Ал прошептал мне: «Не уходи, Кейт, расскажи, что с тобой было».
«Мне надо побыть одному»,— ответил я. Покидая комнату, я ощутил, что каждый человек стал моей частью. Хотелось как-то прикоснуться к каждому из них, но было ясно, что это невозможно. И я вышел из дома, пересек двор и медленно пошел к бегущему невдалеке ручью. Шаги мои были едва слышны. Я только мог ощущать предметы, прикасавшиеся ко мне, плеск воды, который теперь словно стал громче, ветерок, пробегающий по коже с какой-то новой свежестью. На небе раннего утра как будто появились миллионы звезд, и пока я смотрел на них, волны энергии накатывали на меня и заливали с головой неописуемой теплотой и одна за другой катились сквозь меня.
Через какое-то время показалось, что внутренности разжижились и испарились и что меня больше нет. Осталось одно только это чувство, и я знал, что плачу. Так никогда я раньше не плакал. Лучи, идущие из меня, были доступны и зрению и осязанию, и тогда пришла благодарность за свое умение видеть все эти вещи, которые я всегда воспринимал как самую заурядную данность. На меня снизошло успокоение, оно оказалось большим, чем то, что я всю жизнь себе представлял, потому что успокоение было живым. Оно билось и дышало, и не было в нем ни тишины, ни скуки. Это успокоение было самым волнующим из всего, что я пережил в своей жизни.