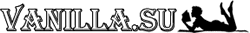Среди основных отмечаемых народом календарных православных празднеств во всей уголках Архангельского края самыми любимыми зимними праздничными днями были Рождество и Святки. Особое состояние астрономического года, каким является зимний солнцеворот, нашло отражение в обрядовой насыщенности святочного периода. От Рождества Христова (25 декабря /7 января) до Крещения (6/19 января) каждый член семьи и сельской общины принимал участие в обходах домов со сдавлением, ряжении, посиделках с игрищами, песнями, гаданиями, забавами, создававшими неповторимую атмосферу святочного веселья.
Как и по всей России, в Архангельском крае примечательной чертой Святок были обычаи колядования и славления Христа. В течение нескольких дней группы, чаще всего молодежи, ходили от двора ко двору, исполняя под окнами домов христианские гимны из богослужения (тропарь и кондак праздника), духовные стихи, посвященные Рождеству Христову, а также колядки — величания хозяину, хозяйке и их детям. Обычаи колядования и славления были распространены повсеместно, но в разных местностях имели свои особенности. Участники этих обходов различались по полу и возрасту.
Принято было утром славить Христа, а вечером — колядовать. Рано утром ходили славить Христа нищие, затем, как правило, до обеда — дети — мальчики и девочки. Ближе к вечеру колядовала молодежь, реже семейные женщины и мужчины. Во многих деревнях Холмогор, Мезени и Лешуконья дети не участвовали в славлении. Не каждого мальчика принимали и в группу колядовщиков. Также считалось предосудительным участвовать в колядовании и взрослым. Называли участников этих процессий в разных местах по-своему: колядовщиками — за исполнение коляды, христославцами, славелъщиками — за церковные песнопения. Местные жители, увидев процессию колядовщиков, говорили: «Славить идут!» Обычно славелыцики ходили с большой самодельной звездой.
По воспоминаниям священника А. Боголепова, в Койнасской волости Архангельской губернии после утреннего богослужения славили по домам сначала мальчики и девочки небольшими группами, выпевая тоненькими голосочками: «Снеги на землю падут, да перегадывают. Пришло Рождество к господину под окно. Ты вставай, господин, пробуждай госпожу, чего Бог послал, то и нам подай!» Затем дети пели праздничный тропарь и кондак. После двух часов ходили толпами женихи — со звездой, спросив сначала позволения прославить и оглушительно грянув затем «Христос рождается», а через полчаса пришли и койнасские невесты и с тем же напевом затянули «Христос на земли».
В Пинежском уезде христославцы во время славления исполняли детские рождественские песенки «Маленький юльчик». По своей развлекательной функции эти колядки были близки детским потешкам.
Я, маленький юльчик, сел на стульчик,
В трубочку играю,
Христа поздравляю.
Хозяин с хозяюшкой,
Поздравляю вас с правздником,
С Христовым рождеством!
Подайте пятак,
Отцу на табак!
В Мезенском, Пинежском уездах пели старинные величальные виноградья, исполнявшиеся с характерным припевом: «виноградье красно-зеленое мое» (от него песни и получили свое название), молитвы и припевки с прославлением Христа и с пожеланиями благополучия хозяевам. За это колядовщиков одаривали разнообразной выпечкой, козулями или деньгами. Если же хозяева ничего не давали, им могли спеть оскорбительную дразнилку:
Праздники Архангельского Севера
в начале XX века
Коляда-моляда, обложу ворота,
До заднего двора, не подать пирога,
Тешен-потешен, хозяин повешен,
За задний жолоб, за кобылий волос,
Волос-от сорвался, хозяин-от убился,
Об тын головой, об угол килой.
В обходах домов участвовали и ряженые, называвшиеся в разных частях Архангельского Севера по-своему (окрутники, снарядихи, наряжонки, кудесам, шуликуны) и делившиеся на страшных (грязных) и баских (чистых), которые ходили в определенные святочные дни. Персонажи грязных и чистых ряженых, граница между которыми, впрочем, весьма условная и к началу XX в. во многих местах уже исчезнувшая, представлены зооморфными и антропоморфными существами: журавль, петух, козел, лошадь, медведь, черт, покойник, цыгане, молодые (жених с невестой), старик со старухой и др. Каждый из этих персонажей становился участником настоящих театральных действ, среди которых, как и по всей России, популярными были игры в покойника.
Среди инсценировок особой любовью пользовались игры в свадьбу, исполнявшиеся ряжеными. Обычно для этого молодежь «переряживалась» — женщины в мужчин, а мужчины в женщин. «Наряжались как на свадьбу женихом и невестой. Жених у нас такой здоровый был, им Алька наряжалась, девчонка така больша была, а невестой — друга. Марлицой, платком лицо завесим. Дедушка скажет: “Пришли гости-то свадьбу играют, ставь самовар”. Потом все и раскроются, песню поют».
Сцены с ряжеными проходили с комедийным азартом — прыганием, скаканием, хлестанием, борьбой, непристойными эротичес-1836 г. кими играми, с диким смехом, криком, притворным плачем и драматизмом, нагнетанием ужаса, страха, испуга.