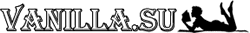Вторая половина августа 1883 года в Буживале, близ Парижа, выдалась не по-летнему прохладной: почти ежедневно моросил косой, наводящий тоску дождь. И ощущение приближающейся осени как будто витало в воздухе. В летней усадьбе «Ясени», расположенной на живописном склоне горы, уже не одно лето проводил Иван Сергеевич Тургенев. Земля под дачу была им куплена вскладчину с Полиной Виардо, а потому ему на законных правах принадлежал небольшой, но очень уютный флигель. Неподалеку, метрах в трехстах виднелась большая ухоженная лужайка, отороченная аккуратно подстриженным терновником. И на нее из изумрудного моря роскошных ясеней словно выплывал многоярусный корабль - просторный, светлый дом.
В нем со своими домочадцами обитала прославленная певица. И редким был день, когда в доме не было бы музыки и не собирались гости - меломаны из многих стран.
Туда же любил захаживать и Тургенев. Обычно он неторопливо шествовал по липовой аллее, поднимался на крыльцо и по обыкновению долгим взором окидывал куртины с пышно цветущими розами, флоксами и георгинами. Словно рукой волшебника они были разбросаны по светло-зеленому полю лужайки. Это благоухающее великолепие напоминало ему цветники родного имения - Спасского… Милое далекое Спасское! Что может быть лучше деревенской скуки в родовом поместье? Нигде писателю так хорошо не работалось, как дома. «А как сладостно и беззаботно можно отдохнуть там», - любил помечтать Иван Сергеевич. Впрочем, с годами писатель все реже навещал свою родину. А если и выдавались эти долгожданные поездки, то они, чаше всего, были непродолжительными.
Стоило ему получить весточку от Полины с жалобой на недомогание (или просто с намеком на него), как он, ее страстный поклонник, опрометью мчался к ней за тысячи верст. Волнами на него находило раздражение – тогда разум брал верх над его чувствами. «Она давно и навсегда заслонила от меня все остальное, и так мне и надо, - размышлял Тургенев. - Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мое лицо в грязь». Писатель хорошо помнил, как однажды к нему в Спасское съехались гости, и вскоре пришло письмо из Франции. Виардо сообщала, что ее в лицо укусила какая-то ядовитая муха; а, ради шутки, приложила рисунок – «автопортрет с распухшим носом». Писатель тут же поделился «печальной» новостью со своим другом, поэтом Яковом Полонским. И заявил, что не медля отправится в Париж. «И вы, из-за такого пустяка, бросите нас всех и поскачете за три тысячи верст?»- удивился Яков Петрович. - «Несомненно! А вдруг ее жизнь в опасности?! Не дай Бог, сделается заражение крови», - услышал он в ответ…
Тургенев всегда комфортно чувствовал себя в семье певицы - и по многим причинам. Конечно, он боготворил Полину, но и был очень привязан к ее дочерям, особенно к младшей - Марианне (одну из своих героинь писатель даже нарек ее именем). Многим казалось, что любил он их ничуть не меньше своей внебрачной дочери Пелагеи (Полины). Она родилась от белошвейки Авдотьи Ермолаевны. Мимолетная связь молодого Тургенева с этой миловидной особой вспыхнула в дни его бесшабашной молодости. Он повстречал свою пассию в имении матери Варвары Петровны. У нее по найму и работала эта привлекательная девушка из мещан. Позже Тургенев последовал совету певицы: он перевез малышку Полю в Париж – подальше от деспотичной бабушки. И Пелагея долгое время жила в семье Виардо, где воспитывалась наравне с детьми артистки. Затем окончила пансион и вышла замуж по любви за доброго парня - Гастона Брюньера.
И даже подарила писателю очаровательную внучку. Дедушка охотно помогал молодой семье деньгами, и лишь одно обстоятельство его огорчало : дочь настолько «офранцузилась», что позабыла русский язык… Неплохо ладил Иван Сергеевич и с Луи Виардо, мужем певицы. Многое объединяло этих людей. И, разумеется, литература и охота. Луи был литературным критиком и страстным охотником, как и сам Тургенев. Едва познакомившись в Петербурге (тогда оперная дива впервые выступала в Северной Пальмире в составе итальянской труппы), они отправились вместе на зимнюю охоту в окрестностях столицы. А потом были не менее увлекательные вылазки с ружьями и собаками в Шварцбальдских лесах под Баден-Баденом. Постепенно отношения между двумя мужчинами, любившими одну женщину, вылились в настоящую дружбу, которая, как ни странно, не омрачалась и тенью ревности ни с одной стороны.
Иван Сергеевич, прекрасно владевший европейскими языками, умел легко завладеть вниманием гостей Полины Виардо. Кстати, за домом певицы прочно закрепилась слава самого знаменитого музыкального салона Европы. И именитые гости с удовольствием внимали житейским историям, которые легко изливались из уст русского литератора. И все же центром притяжения для него всегда оставалась избранница его сердца - единственная, непревзойденная и бесконечно любимая Полина. А все началось той давней осенью 1843 года, когда он увидел ее в роли Розины на петербургской сцене (давали «Севильский цирюльник» Россини) и услышал, то, что так тонко передал в стихах его друг Полонский: «О, это вкрадчивое пенье!/ В нем пламя скрыто - нет спасенья!/ Восторг, похожий на испуг,/Уже захватывает дух -/Опять весь зал гремит и плещет…».
С того знаменательного вечера пленительный образ двадцатидвухлетней примадонны глубоко запал в сердце Ивана Сергеевича. Он не пропускал ни одного выступления Полины, бредил ею во сне и наяву. Однажды он зашел домой к поэту Николаю Некрасову. Хозяин был увлечен игрой в преферанс со своими партнерами - Боткиным, Белинским и другими гостями. Поздоровавшись, он сразу стал взволнованно говорить: «Господа, я так счастлив сегодня, что не может быть на свете другого человека, счастливее меня!» Эта фраза в различных вариациях затем повторялась несколько раз. Удивленные игроки даже отложили карты с тем, чтобы поподробнее узнать, что же стряслось с Иваном Сергеевичем. Стали допытываться, и выяснилось: у пылкого почитателя певицы разболелась голова; и тогда сердобольная Полина смазала ему виски одеколоном. Это откровение откровенно раздосадовало собравшихся – ну стоило ли из-за этого прерывать игру? Более всех возмущался Белинский. Тот выпалил в сердцах: «Ну, можно ли верить в такую трескучую любовь, подобной вашей?»
Этот эпизод почти сорок лет спустя, вспоминал и сам Тургенев в один из ненастных августовских дней 1883 года у себя во флигеле в Буживале. Он был болен. С самого начала год складывался для писателя неудачно: болезненная операция (без наркоза) - удаление опухоли в нижней части живота. Не успела зажить послеоперационная рана, как с удвоенной силой возобновились приступы давнишней его болезни – подагры. А к ним добавилась еще и грудная жаба. В конце мая Полина Виардо (они жили в Париже в одном доме - на улице Дуэ) настояла, чтобы Тургенева перевезли в «Ясени». Она питала надежду на целебные свойства деревенского воздуха. К сожалению, выздоровление не приходило и здесь. О привычных (в прошлые годы) прогулках по парку можно было лишь мечтать и то только тогда, когда стихали тяжелые приступы. Писатель почти не поднимался с постели. Он исхудал. Лицо вытянулось. Волосы на голове и в бороде подернулись серебряным инеем.
И лишь живые глаза пожилого человека свидетельствовали об интенсивной мыслительной деятельности. Волна воспоминаний нахлынула на писателя. Всплывали пейзажи его далекой родины: отчий дом с тенистым садом, заросшие дорожки, ведущие к мелкому пруду с необычайно прозрачной водой. Там он, мальчишкой, в заветном месте, у плотины, с упоением ловил пескарей. А совсем близко от пруда рос дуб, посаженный его собственными руками. К нему писатель так любил приходить, когда приезжал в Спасское. Правда, посещения родных мест резко сократились с тех пор, как в его жизнь, подобно урагану, ворвалась любовь к Полине. Даже теперь, когда утекло столько воды, он буквально до запятой помнил то свое послание-признание женщине., покорившей его сердце: «Мои чувства к вам слишком велики и сильны. Я не могу, не могу больше жить вдали вас, - я должен чувствовать вашу близость, наслаждаться ею - день, когда мне не светили ваши глаза, - для меня потерян»… И теперь, став немощным стариком, Тургенев с той же искренностью мог повторить те же слова. О как захватило тогда его это чувство! Ни угрозы матери, женщины богатой и своенравной ( "Как Бог свят, прокляну и лишу наследства, если не бросишь бегать за цыганкой проклятой!"), ни увещевания брата Николая («Иван, опомнись! Что ты в ней нашел - ни рожи, ни кожи, да еще и замужем?!») не смогли ничего изменить.
Писатель, вероятно, не замечал ни бледности ее смуглого продолговатого лица с большим ртом и полноватыми губами, ни удлиненного носа, ни слишком энергичного для женщины подбородка. Он был пленен горящим блеском ее бездонных черных очей. Его буквально околдовали грациозные движения и, конечно же, божественный дар: артистический и певческий. Впрочем, по этому поводу с Тургеневым был согласен и такой изысканный эстет, как Альфред де Мюссе. Тот как-то обмолвился: «Она поет, как дышит». Между тем у Тургенева возникала почти физическая боль, когда Полины не было поблизости. Безмерно восхищался он каждым ее успехом, и не только на сцене. Ведь мадам Виардо обладала уникальными лингвистическими способностями: помимо свободного владения пятью западноевропейскими языками, она без особых усилий, быстро освоила и русский. Тургеневу очень импонировал и ее редкий художественный вкус. Уехав в феврале 1867 года в Петербург по издательским делам, он сразу же шлет своей музе письмо: «Как счастлив я был, когда читал вам отрывки из моего романа. Я буду теперь много писать исключительно для того, чтобы доставить себе это счастье». Подобное отношение дало певице, ценившей юмор, как-то обронить: «Знали бы русские, кому они обязаны тем, что Тургенев продолжает творить!..»
Писатель приоткрыл глаза и взглянул на окно - снаружи было пасмурно и зеленые ветки мокрых кленов, покачиваясь от ветра, заглядывали в окно. Мелкие капли дождя барабанили по стеклу и, сливаясь в тонкие струйки, скатывались вниз… Послышался негромкий стук отворяемой двери, и уже по звуку летящей походки (над которой словно не властно было время) Иван Сергеевич догадался, что в комнату вошла Полина. Через минуту она склонилась над ним. Заботливо поправила сбившиеся подушки. В ее больших глазах писатель увидел такое неподдельное сострадание, такую глубокую нежность, что слезы самопроизвольно полились по щекам. «О, царица цариц! - едва слышно прошептал больной, - сколько добра ты сделала…». И его потеплевшие глаза осветились тихой улыбкой.