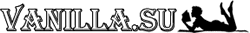Можно ли победить преступность в спальных районах больших городов? По заданию GEO двое бывших полицейских из Нью-Йорка запечатлели будни блюстителей порядка в самом опасном квартале города.
Жители Нью-Йорка чуют новоиспеченного полицейского за версту. Как свежую краску. Новичков выдает характерное выражение лица: смесь бдительности и неопытности. И неважно, как они себя ведут, настороженно или наивно. Неважно, рады ли они новым шансам или боятся ответственности. Они такие же «новенькие» и такие же не проверенные на деле, как и их амуниция. Работа изменит их жизнь.
16 лет назад я сам был таким же, как эти коллеги на фотографиях. Я начинал с того, что патрулировал бедные кварталы Южного Бронкса. И хотя в то время в Нью-Йорке уже начала снижаться преступность (с тогдашних 2245 убийств в год до сегодняшних 5оо), в Южном Бронксе этот прогресс не ощущался.
Когда я впервые надел униформу, мне казалось, что все это «понарошку». Я чувствовал себя ребенком, переодевшимся на маскарад. И даже через какое-то время, привыкнув к форме, я так и не научился чувствовать себя в ней естественно. Наверное, еще и потому, что натягивать на себя все эти слои одежды перед каждой сменой все-таки непросто.
Сначала - брюки и рубашка из синего полиэстера, пристяжной галстук, синяя фуражка и черные сапоги. После этого — ремень с кобурой для девятимилли-метрового пистолета и чехлами для двух 15-зарядных обойм, рация, газовый баллончик, наручники, фонарик. Потом — пуленепробиваемый жилет (скорее, даже «пулесдерживающий») из двух кевларовых пластин, вшитых в корсет, который облегает тело как свинцовый рентгенозащитный фартук.
Один из сослуживцев украсил свой бронежилет цитатой из Библии: «Даже если иду долиной тьмы — не устрашусь зла, ибо Ты со мной». Другие поступают практичнее — пишут на бронежилете группу крови. Экипировка сильно стесняла движения. А когда приходилось за кем-то бежать, то казалось, что на мне не только тяжелые доспехи, но еще и сумка с продуктами. И все же: в этом снаряжении нет ни одного элемента, от которого можно было бы отказаться.
АРХИТЕКТОРЫ СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НЬЮ-ЙОРКА ВДОХНОВЛЯЛИСЬ идеями прогрессивных мыслителей 1950-х годов. Жилые высотки казались им «городами будущего». Эти кварталы должны были заменить многоквартирные доходные дома, в которых теснилась беднота. Если взглянуть на эти кварталы с определенного расстояния или под определенным углом, то можно примерно представить, чего хотели проектировщики. Они мечтали о тенистых платановых и кленовых аллеях; о детских площадках с резвящейся детворой; о семейных пикниках на ухоженных лужайках. О пенсионерах, читающих Библию на скамейках в парке. И действительно — поначалу целая армия дворников, водопроводчиков и лифтеров поддерживала порядок. Да и жильцы содержали свои квартиры в чистоте.
Но в то же время общественные места - подъезды и лестницы — зачастую выглядели как загаженные привокзальные туалеты. Здесь царила разруха. Везде валялись трубки для курения крэка (дешевого сильнодействующего наркотика. — Ред.), шприцы и гильзы. На месте смытых со стен надписей тут же появлялись новые.
А следы от пуль и огня на стенах подолгу оставались нетронутыми. На крышах в лужах мочи плавали банки из-под пива; обглоданные куриные кости валялись среди кучек дерьма. Мы научились не прислоняться к стенам, чтобы с них под одежду не заползли тараканы.
В этих домах жило около десяти тысяч человек. И примерно трем тысячам из них район был обязан своей дурной славой. В Нью-Йорке много неблагополучных кварталов, но именно Южный Бронкс стал синонимом трущоб.
Мой прадед поступил на службу в полицию Нью-Йорка в 1907 году. В те времена на месте нынешнего Южного Бронкса простирались поля. В 1970-е казалось, что на этот замусоренный пустырь уже никогда не вернется городская жизнь. Скорее, уж его отвоюет природа.
Когда я был ребенком, городские власти распорядились закрывать окна в заброшенных домах Южного Бронкса щитами с изображением занавесок и горшков с цветами. Эти «потемкинские деревни» должны были создавать иллюзию того, что здесь живут благополучные семьи, а не наркоманы.
В те времена даже официальный латинский девиз Бронкса звучал зловеще — No cede malis (то есть «Не отступай перед бедой»). Но один писатель придумал более подходящий: «Вали отсюда, идиот!»
Я НАЧИНАЛ СЛУЖБУ В КВАРТАЛЕ, ГДЕ В ПОДЪЕЗДАХ МНОгоэтажек по дороге домой дети переступали через три разных вида ампул из-под крэка. А большинство жильцов, независимо от возраста, запросто могли отличить на слух выстрел от фейерверка или незаводя-щегося автомобиля. Это такой сухой, резкий щелчок, как будто кто-то разломил пополам ветку.
Мы были готовы к худшему. Мы знали, что столкнемся со смертью. Но настоящий сюрприз состоял в том, что многие семьи вели посреди этого ужаса вполне нормальную жизнь. По утрам они собирали детей в школу и сами торопились на работу; они беспокоились о том, дотянет ли пальто или машина до следующей весны. Оказывается, что жизнь в спальном районе вполне похожа на жизнь в пригороде. Только простора поменьше.
А иногда здесь даже лучше. Ведь в идеале жить в хорошем городе всегда удобнее, чем в деревне. Однажды я поднялся на крышу многоэтажки и увидел там... сокола. А еще отовсюду были видны огни большого города; нью-йоркские небоскребы, сверкающие, как дворцы. Мне было жалко людей, работающих в этих башнях.
Для меня было откровением то, что многие жители Бронкса хорошо относились к полицейским. В благополучных кварталах полицейский - элемент пейзажа типа почтового ящика, на который не обращают внимания, пока он не нужен. Здесь же во время патрулирования я замечал, что люди всегда обращали на меня внимание — особенно старики, дети, одинокие женщины и прохожие, спешащие на работу или в церковь. Многим становилось спокойнее от присутствия полицейского. Это была гарантия того, что к ним никто не пристанет на улице. Порой они мне так и говорили. И мне это было приятно.
Но уличная молодежь нас, как водится, ненавидела. Подросткам в возрасте от 13 до 20 лет из числа безработных обычно просто хотелось поскандалить, но иногда они угрожали нам всерьез. Полицейский был для них помехой, портил им все удовольствие. Наше присутствие означало, что сегодня им не удастся «повеселиться» вволю. Порой они высказывали это нам в лицо. Одни видели в нас защитников, другие— надсмотрщиков. И те, и другие были по-своему правы. И те, и другие учили меня, каково это — быть полицейским.
С самого начала я хотел сказать всем этим раздраженным чужакам: «Эй, ты видишь меня впервые в жизни! Расслабься! Может, через минуту или через год ты меня полюбишь или возненавидишь. Но пока ты меня вообще не знаешь!» Иногда это действительно помогало утихомирить людей. Но со временем я понял, что они воспринимали меня не как живого человека, а как стереотип. Каждый видел во мне что-то свое: полицейского-новичка, белого констебля, ирландского копа, надсмотрщика в гетто, плохого, хорошего, черствого, отзывчивого или трусливого полицейского. Мне было трудно объяснить им, что я — не персонаж криминального сериала. Для них я был еще одним вооруженным копом. Но самое главное- представителем власти, частью государственной системы.
Чаще всего удается сблизиться с людьми, начать понимать и уважать их в самые трудные моменты жизни. Когда тебя ограбили, когда у тебя колющие боли в сердце, когда ты приходишь домой и видишь, что твой супруг умер, — в такие моменты полицейский становится не просто носителем плохих новостей, а живым доказательством того, что произошла действительно трагедия. Нам нередко приходилось погружаться в безумные миры наркоманов и душевнобольных. Полицейские становились свидетелями их морального и физического разложения; вторгались в их частную жизнь, пытаясь при этом сохранить в неприкосновенности свою собственную.
В таких ситуациях подчас трудно определить, кто жертва, а кто преступник. Однажды возле нашего участка я поймал на себе взгляд женщины средних лет. Она явно хотела заговорить со мной, но не решалась. Я подошел к ней и спросил, чем я могу ей помочь.
«Меня ужасно бьет муж», - сказала она. Я объяснил ей: арестовать его мы не имеем права, но можно в судебном порядке запретить ему приближаться к ней. «Не надо. Мне дочь обещала найти кое-кого, кто с ним разберется», — отмахнулась она в ответ. Я сказал ей, что если мужа кто-то побьет, он снова может выместить злобу на ней. Оказалось, что я ее неправильно понял. «Я не хочу, чтобы его побили, — пояснила она.— Я хочу, чтобы с ним разобрались раз и навсегда. Понимаете?» И она заговорщически подмигнула мне: «Что скажете?»
Что я мог ответить на это? «Мэм, на мне фуражка, жетон и форма. Я полицейский. И вы спрашиваете меня, что я думаю насчет идеи убить вашего мужа?»
Мы разошлись в разные стороны еще до того, как она успела спросить, сколько денег я готов взять за такую работу. И каждый из нас наверняка был уверен, что его собеседник и понятия не имеет о настоящей жизни.
Прошло всего несколько часов, и нас вызвали на «семейный конфликт с насилием». Я выехал с напарницей — Анной Рамирес. Дверь нам открыл здоровяк среднего возраста в одних трусах. Снисходительно улыбаясь, он пустил нас внутрь и дал осмотреть свою квартиру. Мужчина вел себя столь вальяжно, будто он пожизненный президент какой-нибудь банановой республики. В квартире он был один. Но уходя, я увидел на стене фотографию той самой женщины, которая жаловалась мне на своего мужа. Она смотрела со стены с таким отчаянным видом, словно хотела сказать: «Посмотри на него! Если однажды его убьют, неужели ты арестуешь меня?»
ТРУПЫ ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО - ОБЫЧНОЕ ДЕЛО.
Я никогда не боялся мертвецов. Первое же убийство, с которым я столкнулся в карьере, было совершено с особой жестокостью. Убитый — одетый во фланелевую пижаму мужчина со следами удушения, побоев и ножевых ран — лежал на полу. Руки у него были заведены назад, как крылья у куриной тушки. Мне было его крайне жаль, но я не испытывал особого дискомфорта при виде трупа.
Бывает, что лица убитых кажутся умиротворенными, а естественная смерть, наоборот, похожа на ужасающее убийство. Однажды мы осматривали труп пожилого диабетика, умершего от инфаркта. Он упал у себя дома на пол и перед смертью явно пытался дотянуться до телефона. Комната выглядела, как после погрома, на его лице застыла искаженная гримаса, на стенах багровели кровавые отпечатки ладоней, по полу были размазаны фекалии и кровь.
Самое поразительное в мертвом теле — его абсолютная неподвижность. Живое существо никогда не бывает таким статичным. И в теле спящего человека, и в притаившейся и готовой к прыжку кошке всегда есть какая-то пульсация, какой-то трепет, который выдает жизнь. Лишь когда жизнь уходит из тела, оно каменеет. И его единственным и последним предназначением становится реакция, которую оно вызывает у окружающих.
Мы нашли тело одинокого старика, умершего в своей квартире. Он лежал на полу без брюк, в одной лишь грязной футболке, в узком проходе между кроватью и стеной. В комнатушке царил беспорядок. Вся одежда была распихана по старым чемоданам или сложена стопками рядом, словно он собирался в дальнюю дорогу. Еще тут было два телевизора: один — допотопный, а другой — совсем новенький. Вокруг тела среди груд одежды и мусора носилась разыгравшаяся кошка.
Поскольку старик жил один, нам нужно было в присутствии сержанта обыскать жилье на предмет ценностей и доставить их в полицейский участок. Мы нашли только справку об увольнении из армии, вставную челюсть и стопку порножурналов. Мои сослуживцы вскоре ушли. Я остался один. В тот день была моя очередь караулить труп до приезда врача и бригады из морга.
Тут в дверь постучал незнакомый мужчина и заявил: «Я ухаживал за умершим, я его пасынок, и он завещал мне свой телевизор». Я ответил, что он должен представить доказательства своих слов, а до этого позаботиться о кошке. Он ушел. Я включил телевизор. Примерно через час незнакомец вернулся, причем уже не один, а с подружкой. Оба были абсолютно пьяные и в один голос орали за дверью: «Мы его любили! Мы были его семьей! Отдай телевизор!»
Я закрыл дверь и снова уселся перед телевизором. Зазвонил телефон. Я немного подождал и снял трубку в надежде, что мне не придется сообщать о смерти старика кому-то из его родственников.
— Мистер Джонс дома? — раздался голос в трубке. -Нет.
— А его... жена?
— Нет. Но спасибо, что спросили.
— Когда его можно будет застать?
— Нескоро.
— А когда можно перезвонить?
— Простите, с кем я говорю?
— Мистер Джонс недавно интересовался нашими страховыми предложениями...
— Его это больше не интересует.
— А вы кто такой?
— Я полицейский. Мистер Джонс умер, и поэтому я здесь.
— Так вы хотите сказать, что он...
— Умер!
— Может, еще кто-нибудь...
— Он умер. Умер! Умер! Он лежит в двух метрах от меня на полу. Здесь вам ничего продать не удастся.
- А вы сами-то не желаете застраховаться? - никак не мог угомониться голос в трубке. Я положил трубку.
Чувство юмора не входит в стандартный набор полицейского, ею не учат в академии и не проверяют на экзаменах. Но именно оно жизненно необходимо, чтобы отработать одну смену, а потом спокойно заступить на другую. Чтобы найти общий язык со всеми сослуживцами, чтобы доказать жителям поднадзорного тебе квартала, что ты такой же человек, как и они.
Работа патрульного полицейского сопряжена с постоянным риском для жизни. Но больше всего полицейских выбивает из колеи не риск на работе, а политические интриги в высших инстанциях и бюрократия, процветающая в судах. В Южном Бронксе полицейский недолго сохраняет профессиональную невинность. И если ему не удается хотя бы иногда находить в своей работе что-то забавное, он быстро потеряет к ней вкус. Конечно, можно творить добро и без удовольствия. Но чтобы продержаться на службе и при этом остаться хорошим полицейским, надо любить свою работу.
Полицейские часто сталкиваются с опасностью и человеческим горем. При виде трущоб на этих фотографиях кажется, что в таких местах нет повода для радости и смеха.
Конечно, неприятно видеть, как один человек лишает другого свободы. Но привлекать людей к ответственности за их неблаговидные поступки — благородная миссия. Жертвам грабителей редко удается вернуть украденные у них деньги, и не все раны зарубцовываются. Но в своей работе полицейские руководствуются простой мудростью, которая могла бы украсить любую классическую комедию: надо поддерживать закон и порядок ровно настолько, насколько это необходимо для продолжения жизни.