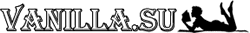«Я не люблю пребывать в состоянии, я люблю быть в движении», - признался однажды композитор Прокофьев. Сергею Сергеевичу исполнилось 27 лет, когда в 1918 году он уехал из России. Покинул родину, ибо не видел себе приложения как композитору и музыканту-исполнителю в стране, охваченной пламенем гражданской войны. Он уезжал на Запад через Сибирь, Дальний Восток и Японию с заграничным паспортом в кармане. За рубежом провел 14 плодотворных лет. И за это время трижды приезжал на гастроли в СССР. На чужбине он много концертировал, сочинил два оперных шедевра: «Любовь к трем апельсинам» и «Огненный ангел», а также Пятую сонату для фортепьяно, написал музыку к балетам «Стальной скок» и «Блудный сын». Довольно скоро снискал международное признание как величайший музыкант. Добился прочного материального благополучия. И вот неожиданно для многих в 1932 году принимает смелое решение окончательно вернуться в СССР – вместе с семьей: женой испанской певицей Линой Льюберой и двумя сыновьями - Святославом и Олегом.
Возможно, ему не раз пришлось пожалеть об этом шаге. Во всяком случае после опубликования в феврале 1948 года постановления ЦК ВКП(б) «Об опере В.И. Мурадели «Великая дружба», которое напрямую шельмовало в том числе и его музыку, резко ухудшилось состояние уже подорванного здоровья. Теперь Прокофьев не мог работать в полную силу. А после перенесенного инсульта врачи позволяли ему заниматься музыкой не более 1 часа в день. Развернувшаяся в прессе клеветническая кампания и вторящие ей выпады на Первом Всесоюзном съезде советских композиторов не могли не потрясти композитора. Так, в частности, Тихон Хренников указывал «на глубокие пороки его оперы «Война мир»! Такое легковесное суждение о произведении, и до сих пор включаемом в репертуары самых престижных оперных театров мира, ныне кажется просто смешным. Каким же уязвимым должен был чувствовать себя Прокофьев в разыгравшемся жутком, трагическом фарсе! Ведь к тому времени он был уже пятикратным лауреатом Сталинских премий. Но беда не приходит одна: в том же 1948 году арестовывают его первую жену по надуманному обвинению в шпионаже.
Прокофьев страшно переживает: чувствует свою вину перед «пташкой» - так он называл певицу в их лучшие совместно прожитые годы. Ведь уход из семьи (в 1941 году к Мирре Александровне Мендельсон – переводчику и впоследствии либреттисту его опер «Обручение в монастыре» и «Война мир») сделал Лину Любьеру не защищенной. Ей будет суждено провести 7 лет в концентрационных лагерях. (Правда, она намного переживет композитора и умрет в 1989 году в возрасте 91 года и будет похоронена под Парижем в могиле матери Прокофьева). Человек очень смелый, он в этой ситуации, однако, испугался. По свидетельству сына Святослава, его отец сжег свои любимые романы Владимира Набокова в каминной печи дачи на Николиной горе. Композитор опасался возможных сталинских репрессий. И даже сочиненная им в 1937 году монументальная кантата «К 20-летию Октября» ( для симфонического оркестра, оркестра аккордеонов, оркестра ударных инструментов и двух хоров на тексты Маркса, Ленина и Сталина) едва ли могла сослужить «броней» от ареста.
Тем не менее еще до начала Великой Отечественной войны ему несколько раз (вплоть до 1938 года) было позволено гастролировать в Западной Европе и США. По натуре живой, неунывающий человек, он умел и любил рисковать. Безусловно, рисковал в молодости, когда, например, покидал Россию. Но верил в себя, в свои творческие возможности и мечтал покорить весь мир. К тому времени у себя на родине он смело заявил о себе уже как самобытный композитор и автор двух серьезных опер - «Маддалена» и «Игрок», двух фортепьянных концертов с оркестром, «Скифской сюиты». Яркая сочная музыка – настоящее половодье «чувств». Недаром Константин Бальмонт не мог сдержать своего восторга: «Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете,/ В тебе востосковал оркестр о звонком лете/ И в бубен солнца бьет непобедимый скиф».
«ПОГАНИНИ ФОРТЕПЬЯНО»
Но на чужбине Сергей Сергеевич вначале проявил себя как выдающийся пианист. Правда, он предпочитал играть преимущественно собственные сочинения. Его исполнительское мастерство было настолько необычно по стилю, что мнения о нем были диаметрально противоположными. Отклики на его концерты газеты печатали как самую невероятную сенсацию. Заголовки статей просто не могли не привлечь внимания: «Пианист-титан», «Русский хаос в музыке», «Большевизм в искусстве», «Карнавал какофонии», «Беззаботная Россия», «Вулканическое извержение за клавиатурой». Однажды в Чикагском отеле негр-лифтер неожиданно с почтением потрогал мускулы пианиста, приняв его за знаменитого силача. Ведь пресса сообщала: «Стальные пальцы, стальные запястья, стальные бицепсы, стальные трицепсы…Это звуковой стальной трест». Лина Льюбера -Прокофьева в своих воспоминаниях отметила, что композитор занялся пианистической деятельностью не только по мотивам материального толка, но и с целью пропаганды своей музыки.
И хотя, по свидетельству художника Юрия Анненкова, «его пальцы виртуоза извлекали из клавиатуры акценты настолько красноречивые и парадоксальные, что у нас создавалось чудодейственное впечатление, что мы слушаем человеческий разговор, а не музыку». И все же приоритетным для себя Сергей Сергеевич считал композиторское творчество. Крупнейший пианист с мировым именем Артур Рубинштейн был большим поклонником музыки Прокофьева. И на вопрос Сергея Сергеевича «Что Вы думаете о солнце?», который тот задавал всем знакомым знаменитостям ( сопровождая просьбой оставить в своем альбоме автограф) как-то ответил письменно: «Лучше всего я постигаю Солнце благодаря нескольким гениальным личностям, с которыми имею счастье быть знакомым. Король-Солнце сказал: «Государство – это я!» Вы, мой дорогой Прокофьев, могли бы сказать: «Солнце – это я!»
«К ДЬЯВОЛУ БАБУШЕК!»
«Бывают, - говорил он, - «композиторы-мулы» и композиторы, от которых идет богатая поросль». Но сам Прокофьев, скорее всего, соединял в себе оба эти типа. С одной стороны, это новатор в музыке. Он ведь добился небывалых вершин во всех жанрах и формах: опера, балет, симфония, оратория, соната и т.д. А с другой стороны проявил себя как неистовый «Телец». Ведь благодаря редкому трудолюбию и необыкновенному терпению он всегда доводил до конца свои творческие замыслы. И строго планировал своё время. Американский композитор, поэт и мемуарист Владимир Дукельский вспоминал: «Прокофьев жил по строгому, им самим установленному расписанию, уклонения от которого, вызванные забывчивыми или навязчивыми знакомыми, приводили его в бешенство». Не любил словопрений и предпочитал решительные действия.
На гастролях в Бостоне в 1938 году повстречался с американским музыковедом и композитором Николаем Слонимским, который с восторгом поведал Сергею Сергеевичу о своем открытии: Чайковский в Четвертой симфонии использовал «бабушкин аккорд». Этим термином «первооткрыватель» назвал двенадцать тонов, расположенных в определенной, вскрытой им, последовательности. Реакция композитора была молниеносной: «К дьяволу бабушек, давайте писать музыку!» А когда бостонская публика и критика с трудом восприняли его Четвертую симфонию, то на следующем концерте он предложил им послушать свою детскую музыку. Перед исполнением симфонической сказки «Петя и волк» ведущий обратился к собравшимся в зале: «Дети мои!», хотя перед ним были взрослые и серьезные люди. И объяснил им, что каждое действующее лицо в этом произведении изображено соответствующим музыкальным инструментом. Все это вызвало веселое настроение у слушателей. Автору же, к его радости, пришлось дирижировать оркестром высокого класса.
Успех был полный - публика долго не отпускала исполнителей... Впрочем, пробуждению у Прокофьева творческого подъема способствовали интересные пристрастия мэтра. Так, он уверял, что игра в шахматы помогает ему в сочинительстве музыки . Так или иначе, но в 1909 году в Петербурге музыкант свел вничью партию с экс-чемпионом мира по шахматам – немцем Эмануэлем Ласкером. Кроме того, он проявлял повышенный интерес к технике. В конце 1942 года в московской гостинице «Националь», где жил в то время композитор, его навестил Святослав Рихтер. Сергей Сергеевич хотел, чтобы пианист исполнил его Седьмую сонату. В номере стоял инструмент, но педаль оказалось испорченной. «Ну что ж, давайте чинить!» - сказал Прокофьев. И музыканты полезли под рояль, а в один из моментов стукнулись лбами так, что «в глазах зажглись лампочки». Но педаль все-таки исправили...
О ТРУПАХ, КОТОРЫЕ ПЕРЕШАГИВАЮТ И...О КОШКАХ НА КЛАВИАТУРЕ
В декабре 1908 года на ученическом концерте в Петербургской консерватории Прокофьев, питомец профессора Александра Винклера, с большим успехом исполнил этюд Рубинштейна. Пи этом он интуитивно играл аккорды с абсолютно твердой кистью, а не пользовался кистевым стаккато, как ему рекомендовал его наставник. И твердая кисть вывезла! Игра понравилась и известной пианистке Анне Николаевне Есиповой. Она, кстати, заслужила репутацию лучшего профессора в консерватории. Об этом Сергею рассказал подошедший с поздравлениями его друг Борис Захаров. Тот как раз занимался в ее классе. А затем добавил: «Вам нечего делать больше у Винклера - он сухой теоретик, а Анна Николаевна - мировая знаменитость, и ее класс – «гвардия» в консерватории. Конечно, к ней чертовски трудно попасть, но, судя по тому, как она воспринимала вашу игру, все же шансы такие есть». И в это время к ним подошел сияющий Винклер. Тот от души поздравил своего ученика. Дебютанту стало не по себе - как будто он встал на путь предательства. Однако на другой день старший друг Прокофьева и его соученик Николай Яковлевич Мясковский также дал ему совет: «Уходите-ка от Винклера: он уже ничему вас не научит. Захаров в добрых отношениях с Есиповой и может замолвить за вас словечко». – «Но такой поступок смахивает на поведение Иуды!» - «Когда вы идете к цели, нечего смотреть на трупы, через которые приходится ступать», - пожал плечами Мясковский.
По настоянию матери Сергей написал отцу. Послушный сын почтительно спрашивая его совета, как поступить в этой сложной ситуации. Мысленно он уже склонялся к переходу и даже упомянул о «трупах, которые перешагивают». Ответ пришел неожиданный: «Но горе в том, что таковые трупы иногда встают и ударяют палкой по затылку...». Между тем Захаров выбрал подходящий момент и с очаровательной улыбкой (он был красив и умел нравиться дамам) подвел Прокофьева к Есиповой: «Анна Николаевна! Вот Прокофьев - способный ученик Винклера. Он мечтает учиться у вас и, кстати, не без успеха сочиняет собственную музыку». – «Прокофьева я слышала и, пожалуй, приму, но пусть он поначалу устроит свои дела с Винклером». Сергей Сергеевич набрался духу и однажды поймал учителя в коридоре. И, краснея, попросил его отпустить в класс Есиповой.
Тот от неожиданности побледнел, но с волнением справился и спокойно ответил: «Вот сдадите проверочный экзамен, и тогда удерживать не буду». И свое слово сдержал: написал соответствующую записку Анне Николаевне. В знак благодарности на каникулах Прокофьев сочинил четыре этюда и подарил их своему наставнику. Через некоторое время тот сказал своему ученику, что внимательно проиграл их, отметил их достоинства. Замечания его были настолько глубоки, что автору было очень приятно их выслушать.
Но каково же было удивление композитора, когда, позднее, сыграв эти же произведения Есиповой, он услышал: "Какие ж это этюды?! - Точно кошки по клавиатуре бегают!». Конечно, он знал, что ответить знаменитой пианистке и педагогу. Но четко сформулирует свою мысль лишь много лет спустя - в зрелом возрасте: «Кардинальным достоинством (или пороком, если хотите) моей жизни всегда были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу подражание, я ненавижу избитые приемы. Я не хочу быть под чьей-то маской. Я всегда хочу быть самим собой».