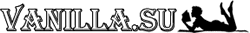Воспоминания – маленькое хрупкое печенье, которое невозможно проглотить, пока не запьёшь хорошим кофе. Горьким или сладким – всё зависит от того… Впрочем, ты и сама знаешь, от чего всё зависит.
Только не верю, что в этом парке более нет ни наших воспоминаний, ни наших следов, ни нашей отчаянной игры. Игры по правилам обнажённой открытости, доверчивого риска и неназванных вещей. Игры по правилам боли.
Когда ты не можешь, не должен жить, пока не услышишь голос, з красками вечернего солнца и сентябрьского золота. Когда ты даже не ветер среди не разбуженных деревьев, пока твои руки, твои длинные красивые пальчики не опекают бережным прикосновением мой затылок. Когда губы всё никак не научаться пить прохладную мяту озёрной воды, пока твои глаза не прольются, не перетекут в мои – немного грустным успокаивающим дрожанием, притихшей, тёплой влагой, волнующей, озорной струистостью.
А ещё в этом парке можно было целоваться. Да, ибо было разрешение: твоё и моё. Разрешение, чтобы начать вон на том берегу, возле тех зелёно-косых лоз; и написать самое достойное и красивое продолжение на простынях перистых облаков, на том неожиданном звездопаде наших объятий, нарастающей пахучей одури, на твоей звонкой, и тёмной, и одновременно такой светлой коже. Она была светлой, ясно светилась, и светилась ты; потому что наш звездопад был тотальным – снизу, сверху, снаружи, со сторон, изнутри и повсеместно.
А потом… Потом над парком сгустился неожиданный мрак. Хоть ты и предупреждала, что холодные, пустые ночи уже были когда-то в жизни каждого из нас.
Да, они были не только пустыми, не только холодными. Они были… без смысла, без правды, без кислорода.
Вот только… Какое мне дело до тех холодных ночей? В моей жизни была ты. Была и остаёшься.
Хоть в нашем парке уже никогда не будет твоих следов.