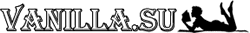Она рисовала гигантские цветы, небоскребы манхэттена, пустынные пейзажи нью-мексико и выбеленные солнцем черепа животных. Прославленная американская художница, гранд-дама модернизма Джорджия О'киф прожила свою долгую жизнь как гордая одиночка, ощущая себя более гармонично в мире флоры и фауны, но не людей. а кроме того, она стала самой фотографируемой женщиной в мире - будучи музой и любимой женой пионера фотоискусства альфреда стиглица. отношения между этими двумя выдающимися художниками стали одной из легенд 20 века.
Она рисовала гигантские цветы, небоскребы манхэттена, пустынные пейзажи нью-мексико и выбеленные солнцем черепа животных. Прославленная американская художница, гранд-дама модернизма Джорджия О'киф прожила свою долгую жизнь как гордая одиночка, ощущая себя более гармонично в мире флоры и фауны, но не людей. а кроме того, она стала самой фотографируемой женщиной в мире - будучи музой и любимой женой пионера фотоискусства альфреда стиглица. отношения между этими двумя выдающимися художниками стали одной из легенд 20 века.
Висконсинский рай
Джорджия Тотто О'Киф родилась в Висконсине в 1887 году. Ее отец был ирландцем, а мать происходила из древнею венгерского аристократического рода. В их огромной семье с семью детьми тон задавали женщины. Мать получила блестящее образование, но своей мечтой стать врачом пожертвовала ради семьи. Она мечтала, что хотя бы ее дочь получит профессию и станет независимой дамой, поэтому ставка в воспитании делалась на образование. Джорджии нравилось играть одной на просторах родительской фермы, она всегда выделялась своей непохожестью на других. Если все дети носились с босыми ногами, то Джорджия гуляла по ферме в белых гольфах. И если братья утверждали, что Бог - это мужчина, Джорджия всегда твердо стояла па своем - женшина! Все лето она проводила, изучая природу, игру ее красок, а морозными зимами читала книги и посешала частные уроки рисования, которые высоко ценились в обществе местных дам. Способности Джорджии были очевидны, и уже в 12-летнем возрасте она смело заявила: буду художницей!
Когда ей исполнилось пятнадцать, семья продала ферму и перебралась на юг, в Унльямсбург. В этом городке был» довольно неплохие возможности для образования, но Джорджия чувствовала себя будто изгнанной из рая и всегда мечтала вернуться на ферму.
Я подарил миру эту женщину
В 17 лет она поступила в чикагский Институт искусств и уже через год стала одной из лучших студенток отделения живописи. Но учебу пришлось прервать из-за тяжелой болезни - тифа. Многие месяцы она боролась со смертью и побелила, после чего отправилась в Нью-Йорк, чтобы продолжить изучать живопись в самом престижном по тем временам учебном заведении - в Лиге студентов-художников. Но учебу пришлось прервать: семья переживала тяжелые времена - отца объявили банкротом, да и мама серьезно заболела. В Нью-Йорк она вернулась лишь спустя семь лет. В столичном воздухе витали идеи модернизма. Их сторонники тусовались в галерее фотографа и патрона модерна Альфреда Стиглица, именно там впервые в американской истории выставлялись работы Пикассо, Сезанна и Брака. Интеллектуалы призывали создать собственное - американское - искусство модернизма. Джорджия прочла Василия Кандинского, который утверждал, что в красках и формах должна отражаться не природа, а чувства художника.
Тогда она решила перечеркнуть все. чему ее учили до ЭТОГО, и, чтобы найти свой путь в искусстве, следовать своей интуиции. Она отложила в сторону краски и начала с нуля - с бумаги и угля. Ночами, разложив на иолу грубые бумажные листы и ведомая вдохновением, она рисовала, рисовала, рисовала - пока кусочек угля не превращался в ее пальцах в пыль. Получалось нечто необычное, иногда ее композиции имели абстрактные, наполненные кричащей сексуальностью линии и формы. В 1916 году из Южной Каролины, где она работала учителем, она переслала эти работы подруге в Нью-Йорк. А та отнесла их в галерею Стиглица, который был для Джорджии непререкаемым авторитетом. Узнав, что эти сильные, необычные работы созданы женщиной, Стиглиц был глубоко впечатлен и признал, что они «самые чистые, утонченные и глубокие из всех, которые за последние годы попадали в его галерею». Джорджия и не знала, что спустя время он выставил их вместе с работами двух других художников.
И вот однажды Стиглиц увидел на пороге своей галереи стройную разъяренную амазонку, по горло затянутую в черное платье с белым кружевным воротничком, которая потребовала у него ответа на вопрос - как он посмел без ее ведома выставлять пи интимные рисунки. Какое-то время мастер молчал, наслаждаясь тгим фотогеничным явлением, а потом ответил: «Они были так великолепны, что я просто не мог поступить иначе».
Выставка произвела сенсацию. Нью-Иоркбыстро облетела весть, что в галерее 291 выставлено «нечто абсолютно особенное». Одни были в восторге, другие пожимали плечами и морщились. А один критик заметил владельцу галереи: «Послушайте, Стиглиц! Все, о чем говорят эти рисунки - «Я хочу ребенка!» Но Стиглиц уже знал, что нашел самородок. Год спустя он организовал первую персональную выставку О'Киф, на которой были выставлены акварели с абстрактными пейзажами Техаса. Эта выставка в легендарной галерее стала последней -дом, в котором она располагалась, подлежал сносу. «Ну вот все и закончилось, - резюмировал Стиглиц. - Зато я подарил миру эту женщину!» И эта женщина совершенно его обворожила.
Фотогеничная любовь
Когда они встретились, О'Киф был 31 год, а Стиглицу 54. Он был видным мужчиной: высокого роста, со скульптурными чертами лица и горящими глазами. Почти 30 лет он прожил в браке, в котором родилась дочь, но не было ни одной родственной души: его жена Эмелина была из состоятельной семьи, но ничего не понимала в искусстве и идеях мужа. Стиглиц мучился, но не разводился - насколько он был смел в искусстве, настолько же нерешителен в личной жизни. Джорджия ворвалась в сю жизнь как свежий ветер, и Стиглица охватила страсть. Он находил в Джорджии «необычную красоту, спонтанность, духовную и эмоциональную чистоту». Джорджия стала его любимой и музой, он - ее учителем и вдохновителем. В Джорджии Стиглица восхищало все: ее независимая натура, неукротимая, андрогинная красота, а более всего - ее талант. Она была создана для фотографин: благородная, как свеча, с дивной красоты руками, с естественными чертами лица и слегка ироничной улыбкой Моны Лизы. А кроме того, О'Киф одевалась в любимые цвета Стиглица - черный и белый. Одежду она шила себе сама - самых аскетичных и скромных, даже пуританских силуэтов: никаких корсетов, никаких декольте, ни намека на кокетство! Единственной ее слабостью были лайковые перчатки и черные шляпы. Стиглиц фотографировал ее как одержимый, а однажды она скинула платье - и открывшаяся его взору картина была еще более восхитительна!.. Как-то, когда Стиглиц в своей мастерской фотографировал О'Киф, их застала его жена Эми, устроила скандал и выдвинула необдуманный улы има-тум: или семья, или эта женщина! На следующий же день Стиглиц оставил жену, чтобы поселиться вместе с Джорджией в маленькой студии. В глазах многих это был неразумный шаг: уже седой Стиглиц терял материальную стабильность, которую обеспечивала ему богатая жена, и выбирал сомнительное будущее с бедной художницей. Вдобавок наступили тяжелые времена: Америка только что вступила в Первую мировую войну и современное искусство не покупалось. Но Стиглиц был опьянен счастьем. В письме к своей сестре он писал: «Мы говорим обо всем. Одну неделю мы проживаем как год — не думал, что когда-то испытаю нечто подобное». Они были эффектной, артистичной парой: всегда элегантный, брызжущий нервозной энергией Стиглиц— и самоуверенная, холодная О'Киф, которая не утруждала себя быть любезной с теми, кто ее не интересовал, - а большая часть людей ее не интересовала. За первые четыре года совместной жизни появились 200 дивных, эротичных черно-белых фотографин Джорджии. Стиглиц увековечил каждый, даже самый интимный, фрагмент ее тела: волосы, глаза, мочки ушей, лодыжки, грудь и бесконечно много раз - ее пластичные руки. Его персональная выставка в 1923 году была посвящена исключительно Джорджии ii стала настоящей песней его любви и, как он заметил сам, его творческой вершиной. Эта выставка прославила О'Киф. И хотя там не выставлялись ее интимные фотографии, выставка вызвала бурю возмущения в пуританском обществе - ведь Стиглиц все еще не развелся с Эми. Развод состоялся через год. И по горячим следам он решил жениться на Джорджии. Она, правда, брака не жаждала - они и так шесть лет жили вместе, и она уже узнала темные стороны характера Стиглица. Но все же согласилась.
Среди небоскребов
Стиглиц был консерватором и пытался Джорджию контролировать. Она же была рождена самодостаточной и свободной. К тому же тот саркастичный критик был нрав - она действительно мечтала о ребенке. Но одержимый искусством Стиглиц, которому роль отца была чужда (к тому же ему было почти 60), считал, что материнство оторвет Джорджию от живописи. Четыре года между ними шла тихая война, пока в возрасте 35 лет О'Киф не оставила все надежды. Стиглиц только что с огромным успехом провел свою очередную персональную выставку, и Джорджия поняла, что ей придется выбирать: остаться с ним и до конца жизни посвятить себя искусству- или уйти от него, чтобы однажды стать матерью. Она осталась. Но в их отношениях появилась горечь...
В Джорджии Стиглица восхищало все: ее независимая натура, неукротимая, андрогинная красота, а более всего - ее талант. Она была создана для фотографии: благородная, как свеча, с дивной красоты руками, с естественными чертами лица и слегка ироничной улыбкой моны лизы.
Внешне они были великолепным тандемом: О'Киф писала картины, Стиглиц с размахом устраивал ее выставки и успешно продавал ее работы. И Джорджию это устраивало - общение не было ее сильной стороной. Художница утверждала, что на самом деле мыслит цветами, потому что слова кажутся ей слишком «неэластичными». Она была настолько безразлична к словам, что названия своим работам позволяла придумывать другим. Свои картины она не подписывала - считала, что и так видно, кем они созданы. Когда однажды ее спросили, почему она так делает, Джорджия ответила вопросом на вопрос: «А почему вы не подписываете свое лицо?»
Каждую весну они отправлялись в просторный летний дом Стиглица в Лейк-джорджию - недалеко от Нью-Йорка, на самом берегу озера - где и оставались до конца осени. Осенью 1925 года они поселились в только что отстроенном отеле-небоскребе The Shelton -сначала на 28-м. потом на 30-м этаже. Вдалеке от городских шумов О'Киф обрела тишину, а еще- потрясающий вид и воздух. И никаких бытовых забот! Там они прожили 12 лет. Из их окон открывался великолепный вид на Манхзттен, постепенно обретавший свой характерный енлутг строились вес новые небоскребы. Здесь они нашли новый источник вдохновения -Джорджия написала около двадцати прекрасных видов Манхэттсна. И все же она тосковала по природе. И одной долгой нью-йоркской зимой начала писать огромные цветы.
Монологи вагины
«Цветок сравнительно маленький. Каждый с цветком, с идеей цветка связывает массу представлений. Но никто не видит, какой он на самом деле», - сказала как-то О'Киф. И захотела заставить ньюйоркцев по-настоящему увидеть цветы - максимально приблизив их. Ее выставка гигантских цветов открылась в 1925 году и вызвала настоящий ажиотаж. Она была наполнена пронзительной эротикой — кисть О'Киф творила чудеса, передавая восковую свежесть лепестков каллы, шелковистую текстуру мака или теплую бархатистость ириса. Она давала своим зрителям возможность прильнуть к цветку, взглянув на него глазами пчелы или бабочки. Многократно увеличенный цветок позволял глазу увидеть тончайшие формы и цвета, всеобъемлющую красоту и чувственность. Но публика, особенно дамы, не могли смотреть на ее работы не краснея: в бутонах этих цветов, в их нежных складках и соцветиях явно угадывались очертания гениталий. Масла в огонь подливали популярные теории Фрейда, в свете которых все и оосуждали «взрыв женской сексуальности» в картинах О'Киф.
В последующие пять лет она написала более 200 картин С макроцветами розами, петуниями, камелиями, подсолнечниками, орхидеями... Но «визитной карточкой» О'Киф стали каллы - ее даже стали называть Леди каллов. Шесть небольших картин с этими цветами были проданы за баснословные но тем временам деньги - 25 000 долларов. Королева косметики Элизабет Арден пожелала, чтобы огромные петунии О'Киф украшали не только ее личные апартаменты, но и салоны. Покупать О'Киф стало модно - и пикантно. По Нью-Йорку ходил анекдот: одна владелица ее картины, чтобы не смущать своих детей, решила перевесить полоч-но с огромным цветком из гостиной в свою спальню. На что ее подруга, заглянувшая на чашку кофе, с облегчением заметила: «Как я рада, что ты наконец-то убрала эту большую вагину!» Сама же Джорджия стоически усмехалась этим интерпретациям: «Вы творите о моих цветах как раз гак, как я бы думала и говорила, что об этих цветах вы думаете и что в них видите - но я так не делаю!» Она утверждала, что стремится лишь к одному - изобразить сущность цветка. Однако эта романтическая отговорка не помешала феминисткам 70-х годов объявить О'Киф создателем «женской иконографии».
Свои картины она не подписывала - считала, что и так видно, кем они созданы. Когда однажды ее спросили, почему она так делает, Джорджия ответила вопросом на вопрос: «А почему вы не подписываете свое лицо?»
Далеко-далеко
С годами камера Стиглица отдалилась от тела Джорджии. Как и он сам. Многие считали: истинная причина была в том, что он не смог смириться с тем, что слава О'Киф затмила его собственную. А кроме того, мастер был большим ценителем женской красоты и всегда питал слабость к юным девам. В 1926 году у него завязался роман с молоденькой, но уже замужней Дороти Нормен. ангельски красивым существом. Дороти стала моделью Стиглица, а также его любовницей, ученицей и помощницей, и их связь на фоне брака длилась до самой смерти маэстро.
Джорджия Дороти ненавидела. Ее гордость была уязвлена, она отдалилась и огородилась в своей ревности. Позже она сказала о Стиглицс: «Его способность уничтожать была так же сильна, как и способность созидать- ЭТИ крайности в нем уживались. Я узнала и пережила обе».
Стиглнц любил Нью-Иорк, а Джорджия тосковала по природе, тишине и простору. Летом 1929 года близкая подруга пригласила ее провести пару месяцев вместе в Таосе, что в штате Нью-Мексико, - это была Мекка романтиков, богемы и художников. И эта поездка навсегда перевернула ее жизнь. Мистическая красота нью-мексиканских пейзажей заворожила О'Киф: пустынные дали, интенсивный свет и рапсодия фантастических красок - красновато-розоватые холмы, островки скупой растительности, поблескивающие в скалах яркие полосы горных пород, постоянно меняющиеся оттенки неба... В дальнейшем там она проводила каждое лето. В своих странствиях О'Киф начала собирать коллекцию - раковины, камни, сухие ветки и выбеленные на солнце черепа и кости животных. Многим такое увлечение казалось пугающим чудачеством, но О'Киф видела в этих трофеях единственную и неповторимую красоту. Все они появлялись в ее картинах и придавали им сюрреалистическую ауру. По некоторые видели в картинах Джорджии тоску и одиночество: она была на вершине славы, ее работы покупали самые престижные музеи мира - но счастливой она себя не чувствовала.
Идеальный пейзаж
В 1932 году Стиглиц организовал грандиозную ретроспективу своих работ. И выставил как фотографии жены, так и фото ню своей любовницы. И в то время 45-летняя Джорджия с ее высушенной на южном солнце кожей по сравнению со свеженькой 27-летней Дороти с глазами серны выглядела резкой и рано постаревшей. Выставка поставила все точки над i: у Джорджии есть конкурентка. Шокированная публика восприняла что так: Стиглиц плюнул жене в лицо. Джорджия искала утешения в недолгом романс с писателем Жаном Тьюмером. Но напряжение только росло.
В конце концов у Джорджии случился нервный срыв, и три месяца она провела в санатории. Выздоровев, она уехала в Нью-Мексико - и нашла то место, в которое влюбилась до конца жизни. Ghost Ranch (или Ранчо Призраков - ходили слухи, что там есть привидения) располагалось в уединенной долине, из которой открывался захватывающий дух вид на сверкающее алыми, розовыми и золотыми красками плато, расцветка которого в течение дня непрерывно менялась. Там Джорджия приобрела аскетичный домик, почувствовала себя свободной от Стиглица и наконец по-настоящему раскрылась. Она обедала с молчаливыми ковбоями, ночевала в спальном мешке на крыше дома под звездным небом и рисовала, рисовала, рисовала. Купив большой черный «форд», она попросила знакомых, чтобы показали ей, как его водить. Затем убрала из машины заднее сиденье - и разом получила укрытие от солнца и мобильную студию. Так она и путешествовала по обширным окрестностям. Каждое лето она проводила на ранчо, занимаясь живописью, а осенью возвращалась с картинами в Нью-Йорк. Стиглиц упрямо оставался там - его ужасала мысль о жизни в пустыне без электричества и телефона, среди койотов и гремучих змей. Кроме того, он панически боялся бацилл и, как иронизировала Джорджия, «был ипохондриком, который не мог находиться дальше 50 миль от врача». Хотя его здоровье и правда было не блестящим. В конце 30-х годов он пережил первый сердечный приступ. За ним последовало еще несколько, и после каждого он становился все слабее. Стиглиц больше не фотографировал и скучал по жене. Он признавался, что лучше быть женатым на Джорджии, которую он видит шесть месяцев в году, чем на любой другой женщине, которую придется видеть все двенадцать месяцев. А вообще важнее всего для него было одно - чтобы Джорджия писала картины.
Одна
Весной 1946 года после тяжелого инсульта Стиглиц впал в кому. О'Киф поспешила к Нью-Йорк и в больнице у постели мужа нашла Нормен. Она тут же прогнала Дороти, а на следующий день после похорон Джорджия приказала ей оставить и галерею Стиглица. I Ipax мужа она отвезла в их летнюю резиденцию И развеяла но берегу озера. «За 30 лет совместной жизни я узнала его лучше, чем кто бы то ни было. И думаю, что причиной, по которой я оставалась с ним, была работа - хотя я любила его и как человека», - сухо прокомментировала она. И только близкие знали, насколько глубока была ее скорбь. Их долгая совместная жизнь была горьковатым замесом вдохновения, упоения и боли - и после смерти мужа в жизни Джорджии осталась огромная незаполненная брешь.
В 1945 году О'Киф приобрела полуразрушенный дом с садом в местечке Абикью неподалеку от Ранчо Призраков. Восстановила его, в возрасте 61 года нарисовала Бруклинский мост, который ни разу в жизни не пересекала, продала свою нью-йоркскую квартиру и совсем перебралась в Нью-Мексико. В Абикью она жила подобно монахине - грубая деревянная мебель, вязаные одеяла, коврики индейцев навахо и черепа животных. Единственной роскошью была ее коллекция выдающейся классической музыки и много-много света. Ее домашним храмом стала просторная студия с потрясающей панорамой, которая открывалась из огромных окон.
В преклонном возрасте она познала новую страсть - путешествия. Отправилась в Мексику, где познакомилась с Фридой Кало и Диего Риверой. Потом на поселения древних майя на Юкатане, в Перу, Испанию, Францию. В возрасте 71 года она объездила Индию, Пакистан, Японию, Филиппины... Когда ее спрашивали, зачем она это делает, О'Киф отвечала: «Я только хочу убедиться, что живу в правильном месте».
Абсолютно не сентиментальная
Став гранд-дамой американского модерна, О'Киф с удовольствием вкушала плоды своей славы, внимание знаменитых друзей и меценатов. В кругу близких друзей Джорджия позволяла себе показывать озорные и лукавые стороны своей суровой натуры, а свое альтер эго доводила до нарциссизма и вела себя как настоящий мизантроп. Например, совсем не симпатичной ей знакомой, которая явилась на прием без приглашения, она при всех гостях заявила: «Я вас не звала, потому что не хотела видеть!»
Временами у нее не было отбоя от навязчивых ценителей ее таланта. Однажды на вопрос такого фаната: «А что вы сейчас рисуете?» О'Киф отрезала: «К сожалению, ничего, потому сейчас разговариваю с вами!» Она не скрывала, что идеальное для нее место - то, где больше никого нет. Однако общество у нее появилось: ей подарили двух щенков чау-чау, которые не отставали от нее ни на шаг и в которых она влюбилась так сильно, что, охраняя их, кинулась убивать гремучих змей, разбивая им головы мотыгой. Джорджия педантично следила за своим здоровьем, выращивая биологически чистый чили, чеснок и базилик, которые ела с испеченным собственными руками хлебом, пила протеиновые коктейли, а в летний зной ходила в «антисептических» белых хлопковых платьях. Она была одержима идеей дожить до 125 лет.
В возрасте 77 лет О'Киф с шести утра и до девяти вечера работала над своими огромными полотнами. А передышкой она наслаждалась на крыше дома, куда взбиралась но высокой деревянной лестнице. Седая, сморщенная женщина в черном платье и черной шляпе, как сухощавый отшельник, с улыбкой сфинкса на лице с тысячью морщин - такой она сидела на своей крыше и смотрела вдаль - на алеющие песчаные холмы. В конце жизни она сказала: «Когда я думаю о смерти, единственное, чего мне жаль - ЭТО того, что я больше не увижу этой земли... Вели, конечно, индейцы небыли правы и мой дух не будет продолжать здесь витать и после моего ухода».
Прах по Падерналу
В возрасте 84 лет О'Киф стала стремительно терять зрение. Вскоре она не могла уже писать картины и все спрашивала себя: «А что теперь?» И вот одним осенним днем в ее дверь постучал молодой человек по имени Хуан Гамильтон, который искал работу. «Он пришел именно тогда, когда он был мне нужен», - сказала потом О'Киф. Гамильтон делал скульптуру и керамику, был красив как бог - с темными, собранными в хвост волосами. Ему было 27 лет, ей - 85. Гамильтон вернул ей радость жизни, стал ее учеником и учителем, ассистентом, другом, доверенным лицом и, наконец, - сиделкой. И остался рядом с ней на четырнадцать лет - до самой ее смерти.
Хуан ее встряхнул, с его помощью Джорджия вновь начала рисовать - ее периферийное зрение еще не исчезло -и написала свою автобиографию. Он также увлек О'Киф керамикой, научил ее делать посуду. Вместе с ней он отправлялся в долгие путешествия. Хуан вел ее переписку и сделки. Оба публично поддразнивали народ, что собираются пожениться - и ходили слухи, что они тайно это сделали. Другие взирали с глубоким недоверием на то, что в жизнь старой, полуслепой и очень богатой О'Киф (цена ее полотен уже давно составляла шестизначную цифру) вошел молодой Гамильтон с мешком долгов. Такое мнение усугублялось еще и тем фактом, что Джорджия три раза переписывала завещание, каждый раз завещая Хуану все большую часть наследства...
Сама она в последнем интервью сказала: «Хуан увидел во мне другую душу, и совсем не ту, которую можно использовать или даже обокрасть. Мы делились душами как в духовном, так и в физическом плане». Это были необычные отношения - женщины и мужчины, матери и сына, художницы и художника. И случилось чудо: Джорджия на глазах оттаивала, становилась более женственной и кокетливой. Впервые в се одежде появились другие цвета - темно-синий, коричневый, бирюзовый. И к каждому приходу Гамильтона она тщательно готовилась. «Влюбилась!» - в ужасе восклицали знакомые. «Хорошо присматривайте за моей бабушкой!» - уходя, наказывал слугам Гамильтон. Но О'Киф была счастлива. С этим ощущением счастья она и умерла — в 1986 ГОДУ в возрасте 98 лет в ломе Гамильтона в Санта-Фе. Исполняя ее последнюю волю, Хуан развеял ее прах у горы Педерна недалеко от Ранчо Призраков. О'Киф невероятно любила ее силуэт и называла своей персональной горой, утверждая: «Бог мне обещал - если буду часто ее рисовать, то смогу ее забрать себе». После О'Киф осталось около 2000 полотен. Лаконичные и поэтические, реалистичные и сюрреалистичные, романтические и мистические - они до сих пор завораживают нас. Как сказал один из ее ближайших друзей фотограф Ансельм Адаме, «в ней всегда было нечто таинственное. Это ощущение возникало невзначай. Она великая художница. Никто не в силах, глядя на ее работы, не почувствовать глубокого потрясения».
17.07.2011 Использована книга Laurie Lisle. Portrait of an artist 1986; Britta Benke. O'keefe. Blumen in Der Wuste, 2006
Журнал Лилит